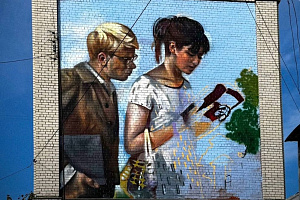Артем Никитин: Мы научились доращивать бизнес из малого в средний, из среднего в крупный, а теперь предстоит — из качественного в уникальный.
С зампредом правительства Рязанской области Артемом Никитиным мы разговаривали о трендах креативной экономики, об открывшейся в конце года школе креативных индустрий, о развитии ИT-сферы, о строительстве индустриальных парков в Рязани и в целом об инвестициях.
В беседе затронули и причины роста турпотока в Рязанскую область, цель введения туристического налога, планы дальнейшего благоустройства территорий Рязанской ВДНХ и строительство Молодежного креативного квартала, который будет открыт в комплексе бывшего Хлебозавода.
Все это — итоги года, которые мы подводили в перерыве между деловой программой и церемонией награждения победителей первой региональной акции «Премия в сфере креативных индустрий». Впервые их получили представители творческих сообществ, гастрономии, медиа, ИT, сферы искусства, а также модельеры, создатели компьютерных игр и даже детских игрушек.
— Артем Александрович, давайте начнем с креативной экономики. Далеко не все понимают, что имеется в виду, а также почему в 2024 году ей вдруг начали уделять такое пристальное внимание. Мы даже сейчас беседуем с вами на церемонии награждения премией в сфере креативных индустрий…
— Все так и есть. Федеральный закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России был одобрен Госдумой РФ только летом этого года. Да и само понятие — креативная экономика — как направление экономической науки и практической деятельности — тоже относительно новое. Если в двух словах, то это курс на объединение творческого и инновационного начала и экономической активности. На такой на симбиоз творчества и бизнеса как на модель социально-экономического развития сегодня делают ставку во всем мире, ожидая успешного продвижения инноваций, развития инновационной инфраструктуры и формирования интеллектуальных предприятий. А основа процесса — это фокус на раскрытии творческой энергии людей, использование интеллектуальных ресурсов и преобразование их в экономически эффективные решения и продукты.
В описании их отличительных характеристик есть три «не». Мы говорим о нестандартных, нетрадиционных и не копируемых идеях, подходах, стратегиях, мерах и так далее.
При этом у методологов этого направления есть еще одно важное описание креативной экономики: в ней главную роль играют изобретательность и воображение, влияющие на поведение и субъектов бизнеса, и потребителей их товаров и услуг.
Да, вынужден признать, что раньше Рязанская область, да и вся страна в целом, не уделяли этому направлению должного внимания. Не смотрели на существующие уже «креативные процессы» как на рычаги экономического роста. Но наступает время, когда бездействовать уже невозможно. И тогда нужно уже просто бежать и делать все очень быстро и качественно. А это как раз то, что мы хорошо умеем.
— То есть, речь идет про сектор услуг?
— Не только сектор услуг. Если мы говорим о направлениях креативной экономики, то их 16. В том числе это и фотография, и реклама, и разработка ПО, и другие отрасли, в которых создаются творческие продукты — музыка, тексты, архитектурные решения, фильмы, художественные промыслы. Все это интеллектуальная собственность, у которой есть авторские права, защищенные патентами и всевозможными торговыми марками.
Кстати говоря, самое узкое место в вопросе развития местных креативных индустрий — это слабое соблюдение норм авторского права, хотя в России закон об этом считается крайне жестким.
Здесь мы говорим о том, что продукты креативной экономики — это уникальные, неповторимые в своем роде. Отсюда возникает цель: предложить нашему бизнесу системные меры поддержки в этой части. Мы уже научились доращивать бизнес из малого в средний и из среднего в крупный, а теперь предстоит — из качественного в уникальный.
— На какую реальную поддержку могут претендовать организации, которые по всем этим — местами формальным — признакам попадают под статус креативных?
— Сегодня мы на всю страну заявили о том, что Премия в сфере креативных индустрий дала символический старт для движения в этом направлении. В следующему году вслед за федеральным законом мы будем принимать закон о креативных индустриях Рязанской области, а на основании пожеланий бизнеса, примем новые системные меры поддержки для его развития.
Мы не должны придумывать за бизнес, формально относящийся к тем или иным сферам креативных индустрий, что им нужно. Он должен сам определиться и четко сформулировать свои потребности, необходимые ему для движения вперед.
В качестве иллюстрации масштаба и сложности предстоящей работы расскажу о неудачном опыте. У нас в регионе есть яркий бренд, уникальный промысел — скопинская керамика. Можно сколько угодно рассуждать о его художественной ценности и рыночной востребованности, но давайте посмотрим на факты. Традиционные квасники и урыльники приобретают коллекционеры, искусствоведы и любители искусства.
Если говорить о массовом потреблении, то люди к такой посуде не привыкли, на нее нет утилитарного спроса. Но это не значит, что мастера скопинской керамики что-то делают не так. Вопрос в грамотном продвижении их уникальных товаров и в точном обнаружении целевой аудитории.
Сейчас Рязанская область находится в стадии приобретения Скопинской фабрики художественной керамики, чтобы дать новый импульс развития этому народно-художественному промыслу. Мы готовы создать все необходимые условия для того, чтобы детально и тщательно была разработана новая линейка продукции для выхода на новый уровень сбыта — и местного рынка, и экспорта.
Параллельно с этим на встрече с керамистами я предложил запустить новую меру поддержки — субсидии для общепита на компенсацию расходов на покупку посуды и предметов интерьера для ресторанов из скопинской керамики. Крутая тема. Мы пригласили на встречу 15 рестораторов и 15 художников-керамистов. И вот все эти 15 рестораторов, пообщавшись с художниками, в итоге приняли решение сотрудничать с одним единственным керамистом. Почему? Потому что он занимается штамповкой и рынком, а остальные — традиционным искусством. И здесь речь не про хорошо/плохо — и те, и другие важны. Я говорю о том, что если бы тема с субсидией была принята до этой встречи, то мы бы в итоге поддержали не отрасль, а конкретного человека-производителя, что в корне неправильно.
Это не так просто — с нуля разработать меры поддержки. Должен быть анализ и понимание, для кого и для чего это делается, чтобы максимально расширить эффект. Поэтому сейчас собираем предложения, чтобы потом встречаться (и неоднократно!) с сообществами, обсуждать еще и еще раз, чтобы выйти на взвешенные решения по форматам поддержки.
Я могу сказать, что у любого нашего предпринимателя, который готов посмотреть на свою продукцию с другой стороны, есть потенциал для создания той самой уникальности. Наш Центр развития креативных индустрий — для этого он и создавался — готов точечно работать с каждым для создания бенчмарка уникального продукта в той или иной сфере.
— Как с этими новыми веяниями в экономике соотносится открывшаяся недавно школа креативных индустрий?
— Напрямую, если вспомнить, что в креативной экономике опора — на развитие воображения и изобретательности. Это нужно развивать, как говорится, со школьной скамьи. Такие школы уже отрыты в 55 регионах страны.
120
учеников 6–10 классов — уже занимаются в нашей ШКИ
В нашей ШКИ смогут — да и уже занимаются — 120 подростков, учеников 6–10 классов. Ребят набрали еще до открытия — спрос на обучение, кстати говоря, бесплатное, оказался очень высоким. Хватит ли нам одной площадки, чтобы заложить новое мышление молодого поколения? Нет, не хватит. Поэтому школу, которую мы оснастили самым современным оборудованием, пригласили на работу высококвалифицированных преподавателей-практиков мы будем использовать как базу для запуска дополнительных проектов и для студентов, и для взрослых, и для бизнесменов — для любого рязанца, кто хочет прокачать свои креативные компетенции.
— Кстати, в перечень креативных индустрий входит и программное обеспечение: если в двух словах, то как чувствует себя эта ветка?
— Условия современного мира очень стремительно перекраивают приоритеты бизнеса. Например, оказывается, что меры поддержки уступают лидерство актуальности кадровой обеспеченности. Бизнесу нужны люди, креативные, заинтересованные в работе. Я не знаю ни одного предпринимателя, который бы сказал, что у него сегодня нет проблем с кадрами — они есть у всех, особенно если в планах расширение бизнеса или запуск новых проектов. Если мы говорим про ИT-рынок — самый перспективный и емкий сегодня, — то там кадровая проблема стоит еще острее.
Именно поэтому в следующем году по поручению губернатора совместно со Сбером мы приступаем к реализации в регионе цифрового проекта «Школа 21». Он не перекроет и не заменит усилия наших ссузов и вузов по подготовке ИТ-кадров, но значительно дефоромализует процесс получения людьми, возможно до этого далекими от цифровой сферы, крайне востребованных сегодня на рынке компетенций.
— Что это за проект и как он поможет с развитием цифровых компетенций и кадровым дефицитом?
— Это образовательный проект Сбера, площадка, где любой человек старше 18 лет, вне зависимости от его базовой профессии, своей рабочей занятости, может пройти переобучение и получить знания и навыки в ИT. Там будет современнейшее ПО, которое позволит заниматься самообучением, выполняя практические задания с самопроверкой, а также получать все необходимые консультации у тьютора. Его задача — не учить, а пояснить, если возникает недопонимание. При этом формат обучения можно определять самостоятельно: есть возможность и желание — приходишь в школу хоть каждый день, хочешь — занимаешься по выходным и даже ночью, ведь двери школы открыты 24 часа 7 дней в неделю. По любому из направлений подготовки предусмотрено три этапа, три курса, и только от самого человека зависит, с какой скоростью он усвоит материал. Для обучающихся все услуги школы абсолютно бесплатные. И правило действует только одно: в школе нельзя спать.
Аналогичные проекты Сбер запустил уже в десятке городов России. По опыту работы школы в Москве могу сказать, что никто из ее участников не доучился до конца: уже на втором этапе обучающихся просто разбирают на полноценную работу крупные ИТ-организации.
Мы приступаем к этому проекту в феврале и постараемся закончить его к декабрю 2025 года.
— Это, конечно, серьезная инвестиция в развитие кадрового ИТ-потенциала. А что за последний год произошло в сфере привлечения инвестиций, если брать все направления экономики?
— Смотрите, что такое инвестиции? Это решение конкретного человека, собственника бизнеса, локализоваться на конкретной территории с конкретным объемом инвестиций, целями и сроками по конкретному проекту. На что этот человек будет обращать внимание, перебирая варианты? Да, он будет смотреть на условия, которые предоставляет регион, на действующие меры поддержки, на инфраструктуру, на качество площадки, на мощности. Но главное все же — это вопрос коннекта с руководством региона, с Корпорацией развития, — возникнет он или нет. И это — поверьте — в бОльшей степени повлияет на принятие положительного решения, даже если площадка для него окажется далеко не идеальной.
Инвестор должен увидеть и прочувствовать нашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы его проект «прижился» на рязанской земле. Ну, а принимающая сторона свою заинтересованность без права на ошибку должна умело подкрепить реальными действиями.
А дальше начинает работать сарафанное радио. Если инвестор зашел в регион, построил завод, и понял, что не ошибся, что сотрудничество прошло на высшем уровне, то он, конечно же, будет рассказывать об этом опыте в своем окружении. О том, как эффективно решались все вопросы, как его проект сопровождали на каждом этапе, как оперативно подключили к сетям, как помогли набрать штат работников. Окружение инвестора будет пересказывать это уже своему окружению и так далее. Именно этот принцип сарафанного радио в действии мы сейчас наблюдаем. «Говорят, у вас хорошо, давайте встретимся и обсудим перспективы одного проекта» — такое слышу все чаще и чаще.
То есть, хорошая логистика, хорошие инфраструктурные площадки в совокупности с мерами поддержки и точечным отношением к потребностям бизнеса — все это и дает рост инвестиций. По показателям он у нас в целом неплохой.
— Начинается строительство второго индустриального парка в Рязани. Понятны сроки, перспективы и отличия от уже построенного?
— В этом году мы запустили индустриальный парк «Рязанский», то есть, завершили с точки зрения готовности инженерной инфраструктуры и условий для того, чтобы резиденты заходили на площадки и строились. Но еще рано говорить о том, что наша миссия закончилась. На самом деле мы пока не сделали самого главного — не создали там условия для комфортной работы сотрудников. Я говорю о реализации концепции «парка в парке». Она предусматривает создание бытовой инфраструктуры. Речь об открытии там магазинов, фитнес-центра, аптеки, филиала банка и МФЦ, частного детского сада, спортивных и детских площадок, прогулочных зон и зон отдыха, скверов. Когда в «Рязанском» появится все то, что я перечислил, только тогда можно будет говорить о полноценном завершении.
Резиденты — а их и пользователей инфраструктуры в парке уже 17 — поддержали концепцию такого благоустройства. Большинство из них еще заняты своими стройками, хотя многие уже в завершающей стадии. Поэтому по нашим расчетам финальную картинку «Рязанского» мы увидим в течение ближайших трех лет.
Но, вы правы, мы не можем заниматься только «Рязанским», создавать идеальный бенчмарк и постоянно совершенствовать только этот проект. Поэтому да, мы уходим в новый парк, который пока называется «М5 Рязань». Он будет находиться около трассы М5, рядом с «Марко-молл». Его профиль — агропромышленный, по площади он будет меньше — 200 гектаров, однако там мы будем придерживаться тех же самых подходов в создании, что и в «Рязанском». То есть, качественная инженерная инфраструктура, экологическая безопасность, мощнейшие очистные сооружения и предприятия 4 и 5 класса опасности (безопасные предприятия).
Юридически мы его уже начали строить. Закончим к началу 2027 года. То есть за два года мы собираемся поднять новый парк. Напомню, парк «Рязанский» мы строили три года.
Помимо этого, у нас еще масса других инвестиционных инициатив. Параллельно со строительством «М5 Рязань» готовимся к созданию еще нескольких индустриальных площадок. Например, уже подготовлен проект по строительству крупнейшего в регионе технопарка. В сравнении с индустриальным, это немного другой формат. Технопарк — это не только инженерная инфраструктура, но еще и готовые здания, строения, сооружения для того, чтобы инвестор просто заезжал, собирал оборудование и разворачивал свою работу.
Ведем переговоры с Минпромторгом России, чтобы в следующем году получить финансирование. Регион готов к софинансированию этого проекта.
— А как насчет санкций? Насколько они влияют на привлечение инвестиций?
— Когда мы были на начальной стадии строительства «Рязанского» — да, введение санкций мы испытали весьма остро. Тогда отказались от своих проектов в «Рязанском» и ушли из региона 7 европейских инвесторов. Нам хватило порядка полугода, чтобы подписать не 7, а 9 соглашений с новыми инвесторами из России и дружественных стран.
Так что в целом, по итогу говорить, что санкции повлияли — нет. Скорее заставили еще тщательнее работать и искать новые направления привлечения инвесторов. Мы смогли вовремя переориентироваться и до сих пор показываем хорошую динамику по объему инвестиций.
— К вопросу про дружественные страны: ждем инвестиции из Индии, Китая?
— Индия и Китай — это сейчас основные страны, которые инвестируют в развитие бизнеса на нашей территории. Индия — лекарственные препараты, сельское хозяйство. Китай — логистика и конкретный проект по производству погрузчиков. Много инициатив в стадии переговоров. Например, по проектам китайских инвесторов по переработке торфа и по созданию автомобильного производства одного из брендов КНР.
— В этом году говорили, что удалось еще больше оптимизировать все процедуры по работе с инвестированием, снизить бюрократию, время согласования, сроки техприсоединения. Что для этого потребовалось сделать?
Во-первых, отношение губернатора. Он принял однозначную позицию — никакой бюрократии, в том числе в вопросах сопровождения инвесторов. В любое время дня и ночи я могу получить от него вопрос, на каком этапе сейчас находится та или иная стройка. И такое отношение с его стороны, разумеется, это — дополнительная мотивация для всей команды.
Во-вторых, это достойная работа команды Корпорации и всего инвестиционного блока правительства.
В-третьих, как мне кажется, со стороны ресурсоснабжающих организаций сформировалось понимание важности этого процесса и общего дела, в котором каждый играет свою роль.
Благодаря всем этим факторам мы вошли в ТОП-5 регионов России по динамике роста в рейтинге инвестпривлекательности АСИ.
— Можно ли назвать то, что вы перечислили, «ручным управлением»?
— Я считаю, что, когда мы говорим о привлечении инвестиций и работе с инвесторами, в «ручном управлении» нет ничего плохого. С инвесторами в принципе невозможно поставить работу на автомат. Поэтому — да, нам важен точечный подход к каждому инвестиционному рублю, чтобы бизнесмен принял решение локализоваться именно у нас в регионе, и чтобы об этом решении никогда бы не пожалел. А, напротив, остался бы доволен сотрудничеством и продолжил развитие своего бизнеса у нас.
Поэтому систему в целом — да, продолжаем совершенствовать, но и не отпустим руку с «ручного управления», с точечного контроля. У каждого инвестора есть сопровожденец из числа сотрудников Корпорации развития, который идет рядом по всем этапам инвестпроекта, по всем инстанциям, помогает с подготовкой документов, их подачей, следит за соблюдением сроков рассмотрения, поддерживает в решении абсолютно любого вопроса, который только может возникнуть у инвестора вплоть до момента открытия предприятия.
То есть, вовлеченность в инвестпроект специалиста-сопровожденца в конечном итоге — это вопрос развития региона, вопрос формирования дополнительной налоговой базы, создания новых рабочих мест, и поэтому какая бы система ни была выстроена, контроль и добросовестное отношение к работе играют первостепенную роль.
— Да, хорошие, вовлеченные в работу кадры — большая ценность, в том числе и для самих инвесторов. Вы упомянули об их поддержке с кадрами, как это происходит на практике?
— Когда четко понимаешь цель, то на практике сложить работающий механизм уже просто дело техники. Цель в отношении кадров у нас одна: чтобы каждый студент, заканчивающий рязанский ссуз или вуз, а лучше еще в процессе обучения, уже понимал, где в регионе он будет работать. В достижении этой цели заинтересованы учебные заведения, жизненно заинтересован бизнес, строящий новые предприятия. И дальше складываем один плюс один и получаем проект «Кадры для инвесторов». Вместе с профильными партнерами его ведет наша Корпорация развития.
Так же точечно подбираем инвесторам будущие кадры. Бизнес готов оплачивать студентам обучение, назначать стипендии, брать на стажировки и на производственную практику.
Это как раз системная работа, которую за 3 года мы уже выстроили.
— В прошлом году, когда мы готовили с вами аналогичный проект, вы заявили, что доходы от туризма в Рязанской области «непростительно малы». Как изменилась ситуация в этом году?
50%
увеличение турпотока в Рязанскую область в 2024 году
— Изменилась, и в лучшую сторону. С января по май турпоток увеличился на 52%, с июня по август — на 46%. То есть, по году в среднем где-то на 50%. И этот показатель привел нас ТОП-5 роста по стране.
И в основном это произошло за счет качественной и плотной событийной повестки. Теперь предстоит работать над возвращаемостью всех тех, кто единожды побывал у нас. А это усилия по повышению сервисности всего бизнеса, всех тех организаций и учреждений региональной индустрии гостеприимства, всей его инфраструктуры. Это и точки общепита, и музеи, и центры отдыха и развлечений, и благоустройство с комфортностью городской среды, и отели.
Смотрите, уже в середине ноября свободных номеров в рязанских отелях на новогодние праздники не было. Все лето мы видели повышенный спрос на размещение, который явно превысил наши возможности. Поэтому открытие новых отелей, гостиниц, глэмпингов — это главная задача в работе по развитию туризма.
— А каким образом измеряются эти показатели спроса на гостиницы?
— Мы оперируем показателями Росстата, в первую очередь. Параллельно вот уже несколько лет ежемесячно мониторим загрузку каждого отеля. Динамика роста спроса просто поражает: у нас, например, есть отели, где среднегодовая загрузка 94%, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 60%.
— Объявлено, что в 2025 году у нас появится туристический налог. Какие ожидания от введения этой меры?
— Туристический налог появится у бизнеса, который занят в индустрии гостеприимства. Он вводится в муниципальных образованиях, где сегодня наблюдаем наибольший рост туризма — Рязань, Касимов, Клепики. Налог будет расти с 1% в 2025 году и далее ежегодно плюс 1%. На пяти процентах мы остановимся. Средства с этого налога будут направляться на создание туристической инфраструктуры — пока еще узкого места, требующего развития.
Что касается туристического сбора, то у нас его нет и в ближайшее время вводить его точно не планируем.
— А какой сейчас номерной фонд в регионе и на сколько позиций его нужно расширить?
— Прежде всего номерной фонд нужно создать в тех локациях, где его в принципе пока нет, например, в Константинове. Музей Есенина ежегодно посещают более 650 тысяч человек. И все, что они могут — это приехать туда, взять экскурсию, перекусить в трактире и быстро уехать. Это — экскурсанты, а не туристы, потому как они не остаются в локации на ночь.
650
тысяч человек ежегодно посещают музей Есенина в Константинове
Константиново в целом очень непростая и чувствительная точка из-за строгих регламентов по строительству. Но регион теряет деньги, лишает людей возможности насладиться пребыванием на родине великого поэта, поэтому средства размещения там рано или поздно появятся. Их предстоит аккуратно вписать и в границы дозволенного законом, и в общую атмосферу места.
Или, например, Шилово — родина богатыря Добрыни Никитича. Там уникальный танцующий лес, великолепные музеи, отличные видовые раскрытия. Но там тоже почти негде остановиться. Или, например, Касимов со всеми его богатейшими объектами показа — там тоже не хватает отеля.
Так что ведем работу с инвесторами, демонстрируем им потребности и перспективы, предъявляем расчеты, насколько востребованными в туристически привлекательных локациях будут построенные ими новые отели, глэмпинги или гостевые домики, к которым неизбежно, как магнитом, притянутся дополнительные сервисы, объекты общепита, инфраструктура детского отдыха.
— Вот как раз о детях и детском туризме: как вы себе представляете это направление туризма?
— Понятно, что ребенок всегда путешествует с родителями, поэтому корректнее называть его не детским, а семейным туризмом. С точки зрения коммерциализации этот вид туризма самый выгодный. На самом деле у нас в регионе все для этого есть. Просто нужно было переупаковать и представить новый турпродукт, который будет интересен семьям с детьми.
Переупаковка состоялась, концепция развития детского туризма с его центральным элементом — путеводителем готова, есть и главный персонаж — это собака по кличке Мампус. Это не выдуманное имя, так звали одну из собак академика Ивана Петровича Павлова. Разработано мобильное приложение-игра на платформах Android и iOS, которое можно скачать и вместе с Мампусом исследовать Рязань и Рязанскую область. Приложение чем-то похоже на всем известную игру Супер Марио. Ребенок будет узнавать про каждое муниципальное образование и достопримечательности, которые есть в Рязанской области. А при полном прохождении игры он сможет получить подарки, обратившись в Туристский информационный центр.
В проекте на сегодняшний день 39 партнеров — организаций, входящих в сектор гостеприимства. Надеемся, что их пул будет расширяться.
— Не могу не спросить отдельно про степень завершенности проекта благоустройства Рязанской ВДНХ и проектом по реновации комплекса бывшего Хлебозавода № 1, о которых вы упоминали сегодня…
— Благоустройство Рязанской ВДНХ не закончится никогда: мы придерживаемся мудрого принципа непрерывных улучшений.
Даже новогодняя программа и оформление территории выставки в этом году, как мне кажется, лучше, чем в предыдущем. Хотя — оставим это на откуп рязанцев и гостей города.
На сегодняшний день в половине объектов локации уже работают резиденты. Осталось одно здание, которое находится в федеральной собственности. Поэтому ведем переговоры, чтобы забрать его в областное подчинение, провести там реконструкцию и в 2025 году запустить.
Если говорить про локацию Хлебозавода, то буквально в последние дни уходящего года открываем там первый объект — Дом молодежи. От него до Кремлевского сквера появилась новая пешеходная локация. В 2025 году начнем работать уже по фасадам и благоустройству территории комплекса, а в 26-м году уже займемся реконструкцией внутри зданий. Полностью проект завершим в 27-м. Это будет Молодежный креативный квартал. Проект очень важный и крупный: второй по размеру в стране молодежный центр. Лидирует Казанский, наш по площади второй, больше, чем в Москве.
— И почти личный вопрос: вы испытываете чувство удовлетворения от того, что сделали вместе со своей командой за этот год?
— Удовлетворение — да, пожалуй. Но больше, все же, ответственность, потому что времени на самолюбование просто нет, темп взяли высокий. Начинаем стройку на одном проекте, тут же запускаем в разработку следующий. Например, только закончили благоустройство Рязанской ВДНХ, и тут же заказали проект на Молодежный креативный квартал. И так далее без перерыва на «погордиться достигнутым».
Хотя, конечно, чувство радости накрывает. Сейчас готовим новогодний антураж на Рязанской ВДНХ, заезжаю проверить, как идут работы по украшению 25-километровой гирляндой всей локации, и в памяти тут же всплывает картинка того, с чего начинали. За последние несколько лет в сумме я провел на площадке выставки несколько месяцев: с подрядчиками и по грязи, и по сугробам, утром до работы и ночью после.
К хорошему привыкаешь, конечно, быстро, но отправную точку в любой работе забывать не стоит. На последнем ПМЭФ в Питере министр экономического развития России Максим Геннадьевич Решетников напомнил всем один верный принцип: сравнивать себя не с соседями, а с самим собой.
Оглавление